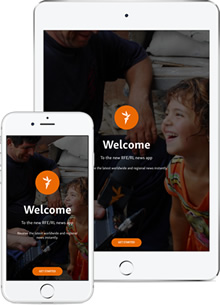Из печати вышла книга русских и советских матерных частушек под названием "Запевай, моя родная!" Наполненное обсценной лексикой издание задумано как подарочное, о чем оповещает и надпись на первой странице: "В подарок друзьям!" Закрывается эта остроумная и познавательная книга другой сентенцией: "Пошла пляска – всем мудям тряска".
Автор проекта и иллюстраций к книге – художница, называющая себя Габи Диголь. В сборнике, появление которого на официальном книжном рынке России сегодня трудно себе представить, около полутора сотен охальных частушек, преимущественно колхозных, отсылающих читателя в том числе к советскому прошлому, а также несколько десятков рисунков, создающих параллельный – наряду с шокирующей текстовой нагрузкой – эффектный смысловой ряд.
Начинаем представленье,
Начинаем песни петь.
Разрешите для начала
На х*й валенок надеть.
Выхожу и начинаю
Озорные песни петь.
Затыкайте, бабы, уши,
Чтобы с печки не слететь!
Запевай, моя родная, –
Мне не запевается:
На***улся я с платформы –
Рот не разевается
Очень смешной, элегантно исполненный сборник наводит на мысли не только о прошлом, но и о настоящем, давая серьезные поводы и для художественного, и для лексического анализа. О том, как рождался замысел книги, Радио Свобода рассказала парижский художник Маша Шмидт:
– Проект родился на излёте ковидного заточения. Вспомните этот странный период, который переживало все человечество, в том числе русскоязычные люди во всем мире: общаться могли, но не могли видеться. Художники в целом были в ту пору подключены к необходимости что-то сделать, чтобы поднять градус человеческой энергии, если хотите, взять немножко в свои руки историю. Нужно было найти способ заново общаться и обмениваться творческими идеями и самим творчеством. В центре этих наших коллективных размышлений стояла Габи Диголь.
Поначалу это была затея для того, чтобы развеселить людей, которые совершенно затухли в заточении по домам. Габи принялась собирать весёлые частушки, так что начиналось всё просто с потешных стихов и смешных рисуночков. Существует большое количество изданий о русском низовом фольклоре, в том числе вполне серьёзных, например, "Русский эротический фольклор" под редакцией Андрея Топоркова, есть словари матерного языка. Но часть этого фольклора до сих пор распылена в общественном пространстве, как языковом, так и культурном. Потом момент некоего куража, желания просто выплеснуть напряжение прошёл, и стало понятно, что появляется большой проект, работа над которым заняла в итоге больше трех лет. Сборник поначалу относит читателя в наше коллективное прошлое. После этого мы как бы путешествуем в истории, попадая в конце концов в наше время, – поясняет Маша Шмидт.
Прохожу я мимо дома
И в окошко вижу х*й.
Это мой миленок Ваня
Шлет воздушный поцелуй.
Слышишь, вся изба трещит
С черепичной кровлею?
Это милый мой стучит
Х**м, как оглоблею.
Отдалась интеллигенту
Прямо на завалинке –
Пенис, девки – это х*й,
Только очень маленький.
– Частушка – двойственное культурное явление, – говорит в интервью. Радио Свобода языковед, доктор филологических наук Гасан Гусейнов, – Русский фольклорист, священник Михаил Зеленев, например, больше века назад писал о частушке с восторгом: живой язык, чистый жанр народной обыденной речи. С другой стороны, частушка вызывает разные культурные реакции. Известно мнение Федора Шаляпина, этот жанр ненавидевшего: какая гадость эта ваша частушка, такое что-то низменное, похабное, что-то, включающее в человеке только "животный низ". Обе точки зрения имеют право на существование, и сборник, который мы с вами обсуждаем, это прекрасно показывает.
Частушка дает возможность рассмеяться до ушей, даже больше того
При чтении такой книги в нашем сознании пользователей языка происходит некоторая культурная встряска. В предисловии книги цитируется моя довольно старая статья о том, на каких осях вообще существует частушечный мир или мир сквернословия. На двух осях: "страшное – смешное" (это, так сказать, горизонтальная ось), и "низменное – возвышенное" (ось вертикальная). Представить себе возвышенное и страшное можно, а вот возвышенное и смешное уже довольно трудно, в отличие от одновременно низменного, смешного и страшного. Частушечный мир – это мир, в котором ось смешного и страшного опускается, смещается от страшного в сторону смешного. Отсюда восприятие частушки как способа раскрепощения. Этот жанр с одной стороны наполнен чем-то, о чем ты не будешь говорить в обыденной жизни. С другой стороны, частушка дает возможность рассмеяться до ушей, даже больше того.
На горе цветёт сирень,
Ветка к ветке клонится.
Парень девушку е**т –
Хочет познакомиться.
Меня девки в гости звали,
Я, конечно, не пошёл –
Пиджачишко плоховатый
И ху**ко небольшой.
У монтажника Ивана
В жопу въехал крюк от крана.
Крановщик махнул рукой:
Завтра вынем, х*й с тобой.
По реке плывет топор
Из села Чугуева.
Ну и пусть себе плывет,
Железяка ху**а.
В частушке есть элемент раскрепощения, освобождения, но есть ещё одна деталь, о которой стоит помнить, когда мы говорим о низменном пласте языка, – продолжает доктор Гусейнов, – Речь идёт об ужасе советского матерного языка. Этот ужас состоял в том, что матерные слова утратили в общении первоначальное насильственно-страшное значение и стали употребляться в обыденной жизни применительно к другим действиям. Вот есть существительное, которое имеет конкретное матерное значение, и вдруг от него образуются слова, непонятно как связанные смыслом с этим словом. Например, глаголы "п***еть", "п***ить", "п***ить", "сп***ить". Всё это слова, имеющие разные значения, но специфика их в том, что они не имеют отношения к исходному слову, от которого произошли. Они никак не связаны с существительным "п***а". Почему возникают эти слова? Потому что они забирают у первичного матерного слова его интенсивность, его силу, его экспрессию. Как и почему это происходит? Механизмы включения не исследованы как следует.
Наготове в языке оказывается матерная речь ещё и потому, что она официально запрещена
В книгу, которая в 2017 году вышла у меня в Киеве и посвящена антропологии русского языка, я включил диалог с девушками, которые бежали по обледеневшим ступенькам, а я бежал за ними. Одна из них сказала другой: "Ой, – говорит, – Нинка, я, – говорит, – чуть не ёб***ась". И я ей, шутя, тоже с улыбкой, потому что и я ндва на этих ступеньках не свалился, говорю: "Девушка дорогая, а почему вы не сказали: я чуть не упала, чуть не свалилась, чуть не грохнулась?" Она отвечает: "Ну, это всё было бы, как-то, хм-хм, как-то ненатурально, пошло". Понимаете? В такие моменты включаются требования максимальной интенсивности и экспрессии к слову. Наготове в языке оказывается матерная речь ещё и потому, что она официально запрещена. Здесь действует совершенно другое правило. Дело не только в том, что люди пользуются матерными словами, чтобы экспрессию подчеркнуть. Они это делают инстинктивно, отторгают любое признанное нормативным выражение. Им надо сказать своё, чтобы это звучало подлинно.
Не ходите, девки, замуж –
Ничего хорошего.
Утром встанешь – сиськи набок
И п***а взъерошена.
Не ходите, девки, замуж
За Ивана Кузина.
У Ивана Кузина
Большая кукурузина.
Ой, залётка дорогой,
Приходи в середу.
Ничего не приноси,
Только палку спереду.
– Не могу сказать, что обнаружил в этой книге какие-то неизвестные для себя слова. Они мне все известны, и я их тоже иногда употребляю, в разных возвышенных компаниях. Но заряд экспрессии, о котором вы сейчас сказали, в книжке такой, что он оказывает серьёзный шокирующий эффект. К тексту мы традиционно относимся серьезнее, чем к устной речи, тем более речь в данном случае идёт об элегантно изданной книге. Часть этих частушек мне знакома по советскому детству, и в общем почти все эти охальные стихи – про полузабытое вчерашнее, про советский опыт, в том числе про Сталина, про Ильича с Наденькой, про колхозный быт. Частушечный жанр в последние десятилетия ведь не очень-то развивается. Но в то же время у меня осталось ощущение, что это все частушки – про сегодняшнюю жизнь. Это как раз в силу того, что русский язык, через 35 лет после распада Советского Союза не утратил насильственной функции, верно я понимаю?
Такая книга – как встреча, ну, если угодно, с большой банкой соли
– Он не только её не утратил, он эту функцию ещё и форсирует в последнее время. Государство в наглой форме насильственную природу языка и общественного уклада транслирует. Действительно, шокирующее воздействие такой книги объяснимо. Наверное, оно будет несколько скрашено, когда появятся какие-то комментированные аналитические издания такого рода сборников. Я бы сравнил этот сборник с поваренной книгой, которую тяжело читать, особенно на голодный желудок. Вы не же станете множество рецептов подряд читать! Есть замечательная работа филолога Светланы Адоньевой под названием "Прагматика фольклора", посвященная этой теме. Там не такие частушки разбирались, а обычные частушки, не постфольклорные частушки, как эти, а чисто фольклорные частушки. Там разбиралась сложность для нормального человека получать такой сгусток чужой картины мира. Это как встреча, ну, если угодно, с большой банкой соли или какой-то приправой типа хмели-сунели. Вы же не можете пересыпать этой приправой все блюда! Такие вещи могут время от времени впрыскиваться в речь как сигнал чего-то. Но нынешний мир – война, смертоубийства, одиночество, ставшая нормой опасность – ты понимаешь лучше, когда читаешь эти частушки, не так ли? Они демонстрируют, что происходит с человеком, когда он не свободен, когда ему тяжело; как он на это реагирует, как он спасается от этого, – считает Гасан Гусейнов.
Вот надену пеньюар,
Лягу на перину –
Как меня не отъе**ть,
Такую балерину.
Я косила и гребла
От среды до пятницы.
Не одни доярки – бляди,
Бляди и телятницы.
А у мого милого
Глаза как у идола,
Брови черны, как смола –
Ему стоя бы дала.
– Это фантастический художественный труд, сотни рисунков – так художница Маша Шмидт оценивает творческое усилие Габи Диголь, – Достоинство этой работы, в частности, в том, что иллюстрации не занимаются пересказом частушек, не бегут за текстом. Это самостоятельная, очень мощная, глубоко копающая, если угодно, серия работ. Иногда мы узнаём в рисунках персонажей частушек, они достаточно живые, хотя и вполне эскизные. Есть ощущение, что художник быстро зарисовал то, что видел, но придал своему рисунку стилистически новую окраску. Это не совсем рисунки с натуры, но они всё-таки похожи на настоящую жизнь, в них несомненен мощный градус драматизма и лиризма, глубокого понимания ситуации, своеобразной культурной атмосферы, которая считывается буквально с каждого штриха.
– Меня удивила умелая работа художника с цветом. Мне кажется, тональность рисунков точно совпадает с настроением частушек, и озорным, и приглушенно-печальным.
– Вы правы, мы понимаем, что всё художественное повествование выдержано в определённом ключе, но внутри есть некие вариации. Возникают изображения в странных гаммах: зелёного, грязного, серого, хаки, оттенках коричневого. Потом вдруг на этом фоне возникает портрет персонажа, какой-нибудь прекрасной красавицы: "Вот надену пеньюар..." Этот портрет внезапно разбивает грустную зелёную гамму, выдержанную в цветовых интонациях... ну, скажем, советских пассажирских поездов. Ярким синим Габи сделала столько вариантов, что можно издать целую энциклопедию частушек с такими иллюстрациями. Каждый цвет – определенный символ, который относит нас к месту и времени действия. Это в сущности гений места, к которому художник страшно чувствителен, Габи считывает его именно с точки зрения сочетания цветов-символов. Я в этих символах очевидно и очень отчётливо вижу Россию, эта цветовая гамма не то чтобы похожа там на какие-то русские пейзажи, но символизирует связь чего-то чрезвычайно высокого и поэтического – голубые прозрачные тона – с чем-то чрезвычайно ужасным и грязным, с характерным для России специфическим зелёным.
Это версия серии иллюстраций даже сложно сказать какая по счёту, в общем, точно не первая, да даже думаю, что и не десятая. Она сильно отличается от предыдущих, противодействующих вариантов тем, что здесь возникает мощнейший символ. Символ на только цветовой, но и смысловой. Важна для проекта идея забора, которая проходит, собственно, почти через всю книгу. Забор возник как отдельный символ, как некая самостоятельная фигура, препятствие, ограничение, какой-то паралич, который свойственен вообще всей истории про колхозную советскую жизнь, которую частушки так радостно описывают.
После долгих поисков Габи остановилась на некоторого рода (мне даже страшно произносить это слово) реализме. Вроде бы он тут совершенно ни при чём, но с другой стороны, и при чём. Габи пыталась по-разному подходить к материалу: были смешные иллюстрации, почти карикатуры, были очень жесткие, были очень условные, разные. В конце концов предпочтение получил своего рода портретный принцип: Габи много ездила по русской провинции, фотографировала и рисовала портреты, и вот она вернулась к этим портретам, фотографиям, скетчам. В результате персонажи частушек – изначально реальные люди. Это потрясающая линия: персонажи живые, у них фактически есть имена, живые люди вливаются в частушку и тоже превращаются в символы.
– Давайте назовём это коллективным портретом русского народа. Рисунки выполнены кистью или руками, я знаю, что Габи много работала в этой технике?
Тебе нужно вызвать жизнь из планшета, фактически встать в оппозицию к машине
– Последний вариант сделан, собственно говоря, на планшете. Там работал не совсем карандаш, это стилос, любящий тонкий штрих. У Диголь живой графический язык, необычайно разнообразный. Поэтому довольно сложно за секунду понять технику: рисунки выглядят столь живо, что мы не узнаём в них машину. За этим стоит дигитальный рисунок на планшете, это модная история сейчас, в том числе в высоких художественных кругах. В Париже этим летом проходит выставка всемирно известного, наверное, самого известного английского художника Дэвида Хокни. И старик Хокни (ему уже за 90) в последние несколько лет только и делает, что рисует на планшетах, и весьма успешно. Но к планшету тоже нужно, видите ли, приставить художника, это же не искусственный интеллект! Художник, причём умышленно, меняет технику письма, он как бы несколько борется с машиной. Тут есть очень важная игра, потому что тебе нужно вызвать жизнь из планшета, фактически встать в оппозицию к машине. В этом тоже есть что-то, как мне кажется, важное для книжки.
Габи могла бы ее проиллюстрировать совершенно любым способом, она художник, который имеет бесконечный спектр языков, работает в огромном количестве техник, все сложно даже перечислить. Но здесь, мне кажется, была поставлена еще и личная задача. Знаете, художники порой ставят перед собой какие-то странноватые задачи, и эти замыслы иногда не выходят за стены мастерской. Здесь, я полагаю, за решением стоит идея того, что жизнь продолжается, и она прекрасна во всех своих проявлениях. Да, мы живём в современном мире, но вот эту вот корявость, грубость, но и бесконечную лирику живого рисунка можно выразить и таким образом, – говорит Маша Шмидт.
До свиданья, дорогая,
Уезжаю в Азию.
Может быть, в последний раз
На тебя залазию.
Из-за леса, из-за гор
Вышел дедушка Егор –
Сам лохматый, бородатый,
Вместо х*я – мухомор.
Раз Иваныч невзначай
Сунул х*й в английский чай.
В тот же миг всё стало новым:
Х*й – английским, чай – ху**ым.
Как по лесу шёл Иван,
Был мороз трескучий.
У Ивана х*й стоял –
Так, на всякий случай.
– Доктор Гусейнов, скажите, пожалуйста, почему важно с научной точки зрения изучать и фиксировать ненормативную лексику?
– Cамо определение "ненормативная" мне кажется неточным, потому что подобная норма устанавливается, так сказать, извне языка. Когда мы говорим о нормативном, то имеем в виду правила, которые вводят люди: вот так надо разговаривать, вот такова норма, а всё остальное – отклонение от нормы. Но когда мы говорим о языке вообще, то нужно понимать: главное – узус, то есть употребление, реальная речевая практика. В этом поле сложилось несколько национальных школ. Одна из них, французская, устанавливает: язык в максимальной степени должен быть подвергнут контролю, словари должны быть предписывающие, не описывающие. Существует немецкий подход, при котором предписывающая и описывающая составляющая неходятся в некотором балансе. И существует английский подход, описывающий язык: мы не даём оценок; некоторые правила требуют нормы, но в целом мы фиксируем в словарях так, как люди говорят.
Наука должна изучать сущее, а не должное
Подход в России всегда был, конечно, сугубо нормативным, а в период советской власти превратился в жёстко предписывающий. Предпосылки для такого подхода существовали и в XIX веке. Словарь Владимира Даля, несмотря на его обращение к языковому богатству, в том числе низовому, все-таки старается придерживаться (даже когда он какие-то областные слова записывает) приличий. Между тем, и в XIX веке существовала живая стихия низового языка, живой речи, которой пользовались разные люди – и простонародье, и знать. Когда в стране воцарилась так называемая народная власть, выяснилось, что с этим ненормативным, низовым, просторечным языком она обращается куда жестче.
На вопрос, зачем нужно изучать низовой язык, ответ очень простой: язык – главный источник знания о людях и о жизни. И если мы выделяем какую-то область, какую-то зону языка и говорим: "Ой, вы знаете, она такая неприличная, такая страшная, давайте не будем ее изучать, это все ужасно, этого не должно быть", то мы ошибаемся. Наука должна изучать сущее, а не должное. А у нас в стране, да и в мировой славистике в целом, говорят: "Ну что вы, ни в коем случае! Давайте не будем это упоминать. Это же так все знают! А мы не будем это трогать, потому что это так неприлично и ужасно".
Давайте относиться к языку, как медики относятся к здоровью и к болезням. Если бы врачи занимались исключительно здоровыми людьми, у нас была бы только спортивная медицина. Такая аналогия мне не очень нравится, но тем не менее она понятна людям, и здесь она важна. Эту область языка не изучают в школах и университетах, её не преподают. Законы физики преподают, химию преподают, историю преподают, литературу преподают, а общеупотребимый язык не преподают. Вот почему его надо исследовать: чтобы люди понимали друг друга, чтобы они знали себя.
На песочке два цветочка,
Голубой да аленький.
Ни за что не променяю
Х*й большой на маленький!
Заказала в интернете
Фаллос очень дешево.
А по почте х*й прислали –
Ничего хорошего!
Я на днях пошла в театр,
Запихнув в п***у вибратор.
Обалдеть, какие чувства
Мне доставило искусство!
Здравствуй, Вася, я снялася
В платье светло-голубом.
Но не в том, в каком еб**ся,
А совсем-совсем в другом.
– Изучение низовой лексики (а я её изучал, как и многие, не в учебниках, а на улице) после распада Советского Союза прошло разные этапы. В 1990-е годы годы наблюдался взрыв интереса и публичности к этой сфере, и в рок-музыке, и в поэзии, и в прозе, и в выходе разных, в том числе академических изданий. В 2000-е и 2010-е годы, как мне кажется, было довольно спокойное, систематическое течение научных исследований. В моей домашней библиотеке есть, например, обширный словарь русского мата Алексея Плуцера-Сарно, первый том посвящен слову "х*й". Это занимательное и полезное чтение для изучения и сравнения разных языковых пластов. В последние годы в России наступает новый консерватизм и традиционализм, пространство свободы сужается и в том, что касается научных исследований, а вот низовая лексика переживает настоящий расцвет. Вы можете определить будущую траекторию изучения низовой лексики в России?
Советский век был самым матерным в истории русской культуры
– Действительно, уже конец 1980-х годов стал временем публикации большого числа текстов, в которых матерный язык перестал подвергаться цензуре. Но исследований было всё-таки недостаточно, к сожалению. Я бы связал недостаточность этих исследований с недостаточностью исследований советского этапа истории России вообще, прежде всего с точки зрения антропологической. Сейчас выросло поколение школьников, студентов, аспирантов, которые всё больше интересуются этой стороной языка. У меня за последние два года состоялось два больших семинара, посвящённых сквернословию в рэп- и в рок-поэзии, в политической жизни, в масс-медиа. Отчасти эти семинары имели исследовательский характер, мы проводили их в Свободном университете и в "Ковчеге без границ". Мы занимались темой не для эпатажа и не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы понять и разобраться. Советский век, в принципе, был самым матерным в истории русской культуры. Может быть, о петровской эпохе можно то же самое сказать. А начиная с середины XIX века шло постоянное нарастание этой тенденции.
Широка родная Русь –
Не видать конца и края.
Я, наверное, обосрусь,
Место выбирая.
Как-то Надя, шутки ради,
Ильичу давала сзади.
Так родился реферат
"Шаг вперед и два назад".
Обижается народ:
Мало партия даёт.
Наша партия не блядь,
Чтобы каждому давать!
Все эти Пригожины, Путины, Володины, вся эта компания живёт внутри сквернословия, определяющего их картину мира
Траектория дальнейшего исследования низовой лексики пойдёт в сторону всё более глубокого академического изучения этого пласта языка, его роли в культуре, его роли в понимании происходящего, его роли в организации власти, его роли в том, как сформировалась столь мощная антифеминистская и гомофобная линия в русской культуре. Это удивительный русский мир, в котором жестокая, кровавая маскулинность имеет отчасти саморазрушающую основу. Маскулинность, оказывается, может быть амбивалентной: антифемининной, антиженской, но в то же время в основе своей – жестокой гей-культурой, внутри которой присутствует еще и гомофобный момент. Знаете, как в языке это проявляется? Есть слово "опущенный", оно спустилось в обыденный язык из тюремного жаргона. Речь идет о людях, которых используют в мужских тюрьмах как сексуальный объект. Но сами те люди, которые делают это (практикующие, так сказать, "петухи", если говорить на том же тюремном языке) не имеют для себя самих никакого названия. Они ведут себя как гомосексуальные насильники, но при этом себя геями, "голубыми" никогда не назовут.
Парадоксальная картина, характерная для всей области речевого поведения бывших советских и нынешних постсоветских людей! Я назвал бы этот мир пригожинским. Все эти Пригожины, Путины, Володины, вся эта компания живёт внутри сквернословия, определяющего их картину большого мира. И, конечно, изучать эту картину придётся, когда-то и этот режим будет исследоваться, как сейчас исследуется национал-социалистический режим в Германии.
– Развитие интернета создало новую мощную языковую площадку. С одной стороны, это раскрепостило и обогатило язык, с другой стороны, загрязнило и деинтеллектуализировало его, сделало почти площадным. Война России против Украины, как мне кажется, привела в том числе и к легализации многих понятий низовой лексики. Те слова, которые раньше в обыденной или в письменной речи не использовались, теперь стали привычными. Ну, скажем, слова "жопа" или "говно" фактически перестали считаться, как мне кажется, обсценными, они используются сейчас значительно чаще, употребляются и в письменной речи, и в устной. Отчасти слова "хер" и "ху**о" вошли в публичный, в том числе политический обиход. Как к этому относиться?
– Ну, это очень большой вопрос, который требует специального исследования, – говорит Гасан Гусейнов, – Есть общее, то, что объединяет происходящее в русском сегменте сети и в других, так сказать, интернетах. Этим объединяющим вначале была простая безнаказанность высказывания: ты участвуешь в сетевом диалоге, тебя никто не видит, ты раскрепощаешься до крайности и можешь говорить любые вещи. Это происходит еще и потому, что характер общения в сети, на форумах и в чатах по сути своей является промежуточным, не является собственно письменным или собственно устным. Это способ коммуникации, к которому прежде люди не были привычны. Такое общение совершенно эфемерно, оно куда-то улетает, никто его не запоминает; меня нельзя поймать за язык, тем более за руку. Значит, я могу высказываться так, как хочу.
Пионерами подобной коммуникации стали фрики из среды технарей, молодежь, вообще гораздо более свободно пользующаяся языком. Заданы был подростковый по своей сути режим и стиль общения, от которых потом трудно оказалось отвязаться даже самим его инициаторам, когда они повзрослели. Они уже сформировали соцсети как своего рода пубертатную среду. Сами эти пубертатные юноши и девушки выросли, а среда осталась расхристанно-разнузданный. В такую ситуацию легко войти, а выйти из нее трудно.
Задал Митенька вопрос –
И прощай, родной колхоз.
Говорили Митеньке:
Не пи**и на митинге.
Мы с приятелем вдвоем
Работали на дизеле,
Он мудак, и я мудак –
У нас дизель спи***ли.
Для описания острых, болезненных ситуаций люди стали активнее пользоваться резкими, матерными характеристиками
Другая сторона состоит в том, что сетевое общение многоязычно. Помимо других языков, прежде всего английского, оно непременно включает в себя визуальные элементы, все эти смайлики и прочее. В таких условиях обыденная речь не выдерживает натиска чужого, становится более резкой, более агрессивной, более дробной. Эта дробность приводит к объединению простейших реакций: у вас нет времени что-то долго объяснять. Поэтому для описания острых, болезненных ситуаций люди стали активнее пользоваться резкими, матерными характеристиками. Например, страшно популярным стало слово "пи***ц", которое употребляют все, кому не лень, в самых разных контекстах, причем очень диффузно. Что конкретно происходит? Как ты конкретно хочешь неудачную ситуацию описать? Виноват ли ты в ней или то-то другой виноват? Если кто-то другой виноват, то кто именно и что именно он сделал? Это требует объяснения – но нет, используется слово, существительное, которое употребляется в функции наречия и выбрасывается словно коровья лепёшка, накрывающая явление целиком.
Это предмет будущего серьезного исследования, поскольку я говорю сейчас с вами на основе интуитивных данных, своей внутренней статистики употребления матерных слов или вот этого слова конкретно. Понятно, что этому словоупотреблению должны посвящаться международные конференции и конгрессы, на которых нужно рассматривать разные примеры, разные гипотезы и разные теории. Этого не делается, потому что огромная часть людей до сих пор считает: речь идет исключительно о хохме, которая нужна для того, чтобы эпатировать кого-то.
–У вас есть точка зрения на то, где должна пролегать граница между тем, что прилично в языке и что неприлично, как допустимо говорить, как недопустимо? Есть тут нечто, устанавливающее границу?
Школа должна стать площадкой возвышенного общения, а не местом насилия
– Границы устанавливают социальные нормы, социальная среда. Эта среда разрушилась сначала во время пандемии, а потом после начала войны. Заметны ежедневные, будничные изменения. Например, общение студентов и преподавателей или общение в дружеском кругу не воспринимается больше как возвышенное. Такой тип общения – среди друзей, коллег, с соседями – изначально с языковой точки зрения входил не в круг обыденного, а в круг возвышенного. Но чтобы понимать это, нужно учиться в школе, которая должна стать площадкой возвышенного общения, а не местом насилия. Мы же имеем дело с государством, со страной, с обществом, которое рассматривает все процессы внутри самих себя как насильственные. В этом и специфика современной школы. Вспоминаю советскую школу, в которой я учился, вспоминаю отношение преподавателей к нам: редчайшими были случаи, когда учителя обращались с учениками как с людьми уважаемыми. Этого в СССР почти не было, и сейчас в России больше не стало.
Речь идет по сути о взаимодействии объектов насилия: куда ты ни попадёшь, везде найдется человек или группа людей, которые в структурном, так сказать, плане, а не потому, что они лично такие, окажутся выразителями этого общественного явления. Сама структура общения требует от них насилия. Насилие передаётся, перебрасывается на семью, на соседей, в профессиональную среду. Люди переходят из одной насильственной среды в другую насильственную среду. Для того, чтобы изменить данное общество со своими правилами поведения, со своими героями, со своими несменяемыми начальниками, его нужно подвергнуть разгрому. Или из него надо убежать. Но когда и если вы убегаете, то у вас нет гарантии, что вы попадёте в мир, где этому насилию нет места.
По деревне прокатилась
Скорой помощи карета –
Это х**м подавилась
Председатель сельсовета.
Мой миленок от тоски
Выбил х**м три доски
Возрастает год от года
Мощь советского народа
Приоделся Агафон,
Васька красит глазки.
К нам идут войска ООН
Голубые каски
С неба звёздочка упала
Прямо к милому в штаны.
Пусть бы все там разорвала,
Лишь бы не было войны.
Мы Америку догоним
По надоям молока.
А по мясу не догоним –
Х*й сломался у быка.
Мой милёнок – демократ,
Всё читает самиздат.
Он е**т меня подпольно –
Хорошо, но очень больно.
Первое объяснение такое: вы, дорогие друзья, живёте в крайне агрессивной среде. Надо искать для себя такие социальные группы, общение с которыми складывается как возвышенное, а не как низменное. Это непростая, но выполнимая задача. Когда мы со студентами обсуждаем сквернословие, матерную речь в самых ее, так сказать, глубинных формах, то именно в такой контрастной среде оказывается необходимым пользоваться возвышенным языком. Мы говорим об этом матерном языке на возвышенном, высоком, академическом русском.
В мире вокруг нас люди привыкли использовать язык как орудие насилия
Риторические теории сейчас необычайно важны, потому что вводят в качестве первичного, основного, базового требования к речи уместность ее в социальной коммуникации. Уместность в микрогруппах, в которых вы общаетесь профессионально или дружески. Вот в таких группах общение должно быть возвышенным, а не низменным. И если вы пользуетесь низменным пластом языка, то делайте это исключительно иронически, цитируя, шутя, включая регистр сквернословия как смешного, а не как страшного. Разные области применения речи хорошо и давно изучены в классической риторике. Продуктивное общение людей друг с другом, диалог – это всегда область возвышенного, а не область низменного. Осознание этого должно привести к тому, чтобы искать для общения людей, которые согласны с тобой в этом и избегать общения с людьми, для которых главным в речи является насилие.
При этом нужно помнить: в мире вокруг нас люди привыкли использовать язык как орудие насилия, многие привыкли насиловать речью. В этом специфика советского и постсоветского общения. Последняя четверть века особенно кошмарна в этом плане, потому что во главе российского государства стоят люди, для которых сквернословие, низменная речь – это норма, для которых норма – насилие над человеком. Смешное слово "силовики", которым пользуются уже все (и журналисты, и обычные люди) – однокоренное со словом "изнасилование". Если вы не можете убежать из этого мира, вам остается изучать его, понять законы, по которым он существует, – поясняет доктор филологических наук Гасан Гусейнов.
– Габи Диголь с самого начала замышляла книжный проект как подарочный, поэтому и на титульном листе написано "В подарок друзьям!", на той же странице нарисована маленькая прекрасная муха, – расказывает художник Маша Шмидт, – Однако книжку "Запевай, моя родная!" можно купить, это совершенно параллельный процесс, не имеющий отношение к ее создателям. Габи действительно дарит эту книгу друзьям. Однако людям, которые еще не входят в счастливое сообщество ее друзей, удастся найти эту книгу, она появится в европейских магазинах книг на русском языке. Вскоре, не исключаю, появится и издание на французском.
На плетне презервативы
Сохнут, трепыхаются.
Знать, живая еще деревня,
Сексом занимается!
Мы не сеем и не пашем,
Мы валяем дурака:
С колокольни х**м машем,
Разгоняем облака.
Привезли в сельпо клеёнку
В красную горошину.
Отъе***ся всё плохое,
При***сь хорошее.